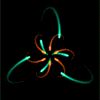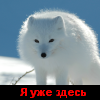Ми Леди (01.12.2013 - 14:27) писал:
Ми Леди (01.12.2013 - 14:27) писал:

История Российского государства по-Акунински.
Автор
Ми Леди
, 30.11.2013 - 15:07
Сообщений в теме: 106
#102
Отправлено 01.12.2013 - 17:59
 Ми Леди (01.12.2013 - 14:27) писал:
Ми Леди (01.12.2013 - 14:27) писал:
Отвечу всем и сразу, на каждую мелочь даже не стану отвлекаться)
Уж настолько доступно и понятно Акунин все разжевал и в рот положил...так и тут умудряются блеснуть своей ограниченностью.((
Уж настолько доступно и понятно Акунин все разжевал и в рот положил...так и тут умудряются блеснуть своей ограниченностью.((
#104
Отправлено 20.11.2014 - 16:58
Политические воззрения грузин на русскую историю
http://sputnikipogro...n/#.VG3JGGeRkb5
...В какой-то момент ксеноисторики перестроились, поняв, что гораздо доходней продавать байки про русских не в Германию, а самим туземцам. Да и кадры начали комплектоваться преимущественно из местных новиопов — представителей культурных народов, намертво уверенных в своем превосходстве над русскими варварами.
Вышесказанное в общих чертах определяет место произведения, приписываемого перу грузинского переводчика Чхартишвили, «История Российского государства» (6). Перед нами типичный продукт ксеноистории в исполнении типичного россиянского новиопа. «Какая говоришь у тебя, Ванька, история-мутория? А ну давай сюда. Щас спляшу. Асса! Асса!». Знать источники, литературу, не путаться в бытовых реалиях и хронологии, не сочинять отсебятины, уметь грамотно переписать текст из одной книжки в другую — всё это при обращении с туземцами излишне.
Если вам вздумается взять этот опус в руки, то надо осознавать, что его гордый автор презирает вас и какого-то там Нестора Летописца настолько, что не считает нужным там, где стоит цифра «7» писать «7» и пишет вместо этого «8». Я не шучу. В рассказе «Повести временных лет» о трагической для русских битве при Стугне, цитируются слова киевского князя Святополка Изяславича: «Имею отрок своих 700» (7). Акунин пересказывает этот эпизод словами «у него в дружине было всего 800 воинов (8). Батоно «7» от «8» не может отличить, а вы от него требуете знания славянской мифологии (9).
Но, хотя я высказывался об этой ксеноисторической вампуке не раз и не два (10), отказать Егору Просвирнину в просьбе написать спутник по погрому акунинщины я не мог. Тем более что Акунин обладает счастливой способностью напихать ошибок буквально в каждый абзац своего текста. Так что мне почти не придется повторяться по сравнению с прошлыми публикациями.
Могут возразить: «Для чего пиарить эту стыдобу?». Увы, от нашего с вами пиара или антипиара ничего не зависит. Перед нами коммерческий проект издательства «АСТ», некоторое время назад поглощенного холдингом «Эксмо», оставшимся единственным крупным игроком на нашем книжном рынке. Серьезные люди вложили серьезные деньги, выплатили переводчику большой гонорар, потратились на хорошую бумагу и на художника-карикатуриста Сакурова, рисующего славян в виде грязных гоблинов (11). Заложились с первым томом на тираж 25 000 экземпляров (наверняка были допечатки), а со вторым — на 100 000. Для нашего малотиражного рынка это равносильно атомной бомбардировке.
А это значит, что, несмотря на провал у всех рецензентов, эту книгу будут пихать в школьные библиотеки, родители будут дарить её на день рождения детям, начальники — нерадивым подчиненным, а люрексные тетки с недокрашенными корнями волос будут свистеть во все фистулы: «Мало мы знаем нашу историю! Мало! Вот только Акунина и можно почитать! Только Григорий Шалвович, батюшка, правду скажет, что у князя Владимира было специальное приспособление для секса — «венерин набедренник» (12).
«300% прибыли», ради которых, по мнению Маркса, капиталист пойдет на любое преступление, уж точно стоят такой мелочи, как замусоривание мозгов туземцев макулатурой про «русославян».
Лажа как метод
К исторической науке этот опус не имеет никакого отношения. Научную книгу от ненаучной вообще отличить довольно просто — в ней всегда присутствует ссылочный аппарат и приложен список использованной литературы. Даже к научно-популярным книгам прилагают хотя бы небольшую библиографию, из которой читатель может составить представление, откуда автор всё это взял и что читать дальше по теме. Если в книге ссылочный аппарат и библиография отсутствуют, то перед нами художественная литература, фэнтези, или же укуренный бред.
Это требование — отнюдь не формальность. Самовлюбленные технари очень любят попрекать гуманитариев тем, что, мол, история не наука, поскольку в ней невозможен эксперимент. Нельзя повторить битву при Ватерлоо или Цусиму, даже если очень хочется перепоказать. Конечно, это не совсем так — существуют лаборатории экспериментальной археологии, где изготавливают каменные топоры и вытягивают в струнку бивни мамонта (13).
Существует такая область деятельности, как историческая реконструкция, которая может быть использована не только для развлечения, но и для уточнения хода событий. Император Николай I однажды с хронометром в руках решил, привлекая большое количество войск, реконструировать ход Бородинской битвы и обнаружил чудовищные хронологические несоответствия с официальной версией событий, которые не получили разумного объяснения вплоть до работ Лидии Ивченко в начале XXI века (14).
Но у рядового историка и в самом деле возможностей поменьше, чем у Императора Всероссийского, поэтому реконструировать события он не может. Но это и не нужно. Задача исторической науки состоит не в том, чтобы повторить событие, а в том, чтобы воссоздать максимально подробную и точную картину происшедшего на основании максимально близких по времени и наиболее достоверных свидетельств, прежде всего — письменных документов, источников. Другими словами, работа историка больше всего напоминает работу следователя с показаниями свидетелей, которая, в случае отсутствия сознательных фальсификаций, как в деле Константинова, обычно дает достоверную картину преступления.
Главное требование к этим следственным действиям — возможность проверить, действительно ли тот или иной свидетель в самом деле сказал именно это. Для такой проверки и нужна библиографическая ссылка — на публикацию источника, на его архивный индекс, если он не опубликован, на худой конец, на книгу другого исследователя, который видел тот самый источник. Эта ссылка равна естественнонаучному эксперименту — каждый человек доброй воли, работающий с книгой или статьей историка, должен иметь возможность самостоятельно проверить, действительно ли в цитируемом источнике написано именно это, не упущено ли при цитировании чего-то важного, не оборвана ли произвольно цитата.
Если ваш текст позволяет провести такую операцию, то он имеет отношение к науке. Если проверить ваш рассказ по первоисточнику невозможно, потому что вы его не указали, или указали неверно — а ведь бывает и такое, некоторые авторы ухитряются давать фальшивые ссылки на несуществующие страницы книг и мнимые источники, рассчитывая, что их никто не проверит, — то это не история от слова совсем.
«Ссылки» Акунина, как правило, имеют вид «Карамзин пишет…» (объем «Истории государства Российского» — 12 томов), «Татищев полагал…» (в «Истории Российской» Татищева — 5 объемистых томов). Но все это не сравнится с эпическим «Летописец утверждает…». Да-да, а «в интернете написано», поскольку «Полное собрание русских летописей» (на самом деле далеко не полное) заключает в себе на сегодняшний момент 43 тома (15). И какого из «летописцев» Акунин имеет в виду, особенно во второй части своего опуса, когда речь точно уже не идет о «Повести временных лет», в большинстве случаев понять категорически невозможно. Да и сам он вряд ли знает.
Никакой библиографии, хотя бы на одну страничку, Акунин вообще к своему сочинению не приложил (16). Сделано это, конечно, вполне сознательно, потому что тогда станет понятно, что никакой новой исторической литературы он не читал и списывает в основном у популярных авторов XIX века (даже из них отдавая предпочтение украинскому русофобу Костомарову, а не, к примеру, дотошному при всем его национальном нигилизме Соловьеву).
Знакомства с монографической литературой у Акунина ноль, о статьях в научных журналах и сборниках вообще не говорю. Это, кстати сказать, доказывает, что никакого интереса к русской истории Чхартишвили не испытывает и в помине. Человек, которому история и в самом деле интересна, особенно если у него диплом ИСАА, читает новые книги, особенно если занялся сочинением истории сам. Подобной потребности наше дарование не испытывает совсем, откуда понятно, что для него история не увлечение, а литературная халтурка.
Понятно, что при такой методологии текст акунинской «Истории» не мог не превратиться в собрание самых безумных ляпов, идиотских гипотез и невероятных нелепиц. Над некоторыми уже смеялись всей страной, наблюдая, точно порнофильм, картину, как гунны предаются «стаеобразной полигамии», в то время как славяне, «ограничиваясь разведением свиней» поклоняются «богу дождя Даждьбогу». Но надо понимать, что ляпы, ошибки, неточные и ложные сведения, домыслы и перевирания присутствуют на каждой, повторюсь — на каждой странице первого тома акунинского сочинения.
Текст с ошибками
Когда я учился в небезызвестной московской 57-й школе, историю нашим математикам преподавал Сергей Георгиевич Смирнов — ученик Л.Н. Гумилева, автор интересной книги «Годовые кольца истории» (17) и изобретатель такого жанра, как «Задачник по истории» (18).
Составной частью такого задачника был текст с ошибками. Школьнику давали совершенно безумный текст типа: «Царь, государь и Великий Курфюрст всея Руси Иван Иванович Грозный ехал на велосипеде по Невскому проспекту, по бокам скакали на оленях опричники с лисьими хвостами, притороченными к седлам. Во главе скакал опричный палач — Ермак, лично задушивший в тюрьме Папу Римского Григория VII Гильдебрандта». Требовалось найти и выписать столбиком все ошибки и анахронизмы в тексте.
Акунинский опус представляет собой, по сути, именно такой текст с ошибками. Я готов с любым человеком доброй воли сыграть в игру, открыв любую страницу этого тома и найдя на ней как минимум одну ошибку. Мало того, я уже играл и выигрывал в, казалось бы, безнадежном положении.
Вот страница 185 (19). 3 строчки. И уже ляп — появляется какая-то «Червеная Русь». По-русски это пограничье Польши и Руси, более известное сегодня каждому новороссу как «Рагулистан», именуется «Червонной Русью», по-украински, коль уж теперь это сердце Западенщины, — «Червона Русь». По-польски — «GrodyCzerwienskie».
Остальное пространство над этим ляпом занимает карта Руси при князе Владимире. Но и она полна ошибок — зачем-то разделена на княжества: Новгородское, Черниговское, Смоленское и т. д. При Владимире никакого разделения, разумеется, не было. Однако если считать «княжествами» земли, которыми управляли сыновья Владимира, то и тут всё неверно. Нет Туровского княжества, которым правил не кто-нибудь, а Святополк Окаянный, зачинатель бойни, которая погрузила Русь в долгую междоусобицу после смерти Владимира. Нет княжества Псковского, во главе которого стоял Судислав. И напротив — Переяславль Южный в это время никакого собственного князя не имел.
Вот страница под номером 281. Пять строчек. Остальное пространство снова занимает карта. Найти ошибку именно в произвольных пяти строчках — дело, казалось бы, невозможное. Но не в том случае, если это Акунин.
«Полоцкая Русь пришла в упадок. В 1127-1129 гг. киевский великий князь присоединил её к своим владениям, а потомков Всеслава выслал в Византию. На этом более чем вековая история независимого Полоцкого государства закончилась» (20).
За «независимое государство» Чхартишвили, конечно, заслужил от Лукашенко орден. Но он его не получит, поскольку злостно клевещет на полоцкую историю. Оказывается, независимая история Полоцкого государства с походом Мстислава Великого не закончилась, а напротив — только началась. «В 1132 году полочане изгнали из города Киевского ставленника Святополка и провозгласили своим князем внука Всеслава Чародея, Васильку» — сообщает нам книга «Страна Беларусь» (21). Сама, впрочем, способная стать не меньшим источником издевательских ошибок, чем Акунин, но только в другом роде — это адовый манифест подлукашенковского белорусского национализма.
Поэтому дадим слово более серьезным авторам:
«Через пять лет потомки Всеслава снова появились в Полотчине и, пользуясь наступавшими на Руси смутами, возвратили себе свои княжения. Но теперь Полоцкая земля была раздроблена и обессилена. Теперь Всеславичи уже не пытались вмешиваться в русские дела» — пишет знаменитый русско-белорусский историк М.В. Довнар-Запольский (22).
Оказывается, до своего разгрома Мстиславом Полоцкое княжество отнюдь не было «независимым государством». Напротив, это была часть Руси, князья которой, как Всеслав Полоцкий, знаменитый Волх Всеславич весьма активно лезли в общерусские дела.
А вот после разгрома наступила настоящая незалежность, будь она неладна, ибо закончилась она для Полоцка покорением Литвой и тем, что теперь белорусов убеждают в том, что они литвины. Ну в самом деле — Всеслав и Витаутас — это же одно имя на одном языке, не так ли?
Впрочем, и тут не всё так однозначно — оказывается и после возвращения Всеславичей Полоцкая земля отнюдь не выпала из общерусской политики.
«Ослабевший Полоцк был втянут в борьбу южнорусских князей на стороне противников Изяслава Мстиславича (1137). Однако слабому Полоцку отношения с Мономаховичами были выгодны. В следующем, 1138 году Василько заигрывает с Всеволодом и Святополком Мстиславичами — новгородскими изгоями, проезжавшими через Полоцк в Псков (1138). В 1138 г. полоцкие «вои» участвуют в походах Мономаховичей на Ольговичей» (23).
http://sputnikipogro...n/#.VG3JGGeRkb5
...В какой-то момент ксеноисторики перестроились, поняв, что гораздо доходней продавать байки про русских не в Германию, а самим туземцам. Да и кадры начали комплектоваться преимущественно из местных новиопов — представителей культурных народов, намертво уверенных в своем превосходстве над русскими варварами.
Вышесказанное в общих чертах определяет место произведения, приписываемого перу грузинского переводчика Чхартишвили, «История Российского государства» (6). Перед нами типичный продукт ксеноистории в исполнении типичного россиянского новиопа. «Какая говоришь у тебя, Ванька, история-мутория? А ну давай сюда. Щас спляшу. Асса! Асса!». Знать источники, литературу, не путаться в бытовых реалиях и хронологии, не сочинять отсебятины, уметь грамотно переписать текст из одной книжки в другую — всё это при обращении с туземцами излишне.
Если вам вздумается взять этот опус в руки, то надо осознавать, что его гордый автор презирает вас и какого-то там Нестора Летописца настолько, что не считает нужным там, где стоит цифра «7» писать «7» и пишет вместо этого «8». Я не шучу. В рассказе «Повести временных лет» о трагической для русских битве при Стугне, цитируются слова киевского князя Святополка Изяславича: «Имею отрок своих 700» (7). Акунин пересказывает этот эпизод словами «у него в дружине было всего 800 воинов (8). Батоно «7» от «8» не может отличить, а вы от него требуете знания славянской мифологии (9).
Но, хотя я высказывался об этой ксеноисторической вампуке не раз и не два (10), отказать Егору Просвирнину в просьбе написать спутник по погрому акунинщины я не мог. Тем более что Акунин обладает счастливой способностью напихать ошибок буквально в каждый абзац своего текста. Так что мне почти не придется повторяться по сравнению с прошлыми публикациями.
Могут возразить: «Для чего пиарить эту стыдобу?». Увы, от нашего с вами пиара или антипиара ничего не зависит. Перед нами коммерческий проект издательства «АСТ», некоторое время назад поглощенного холдингом «Эксмо», оставшимся единственным крупным игроком на нашем книжном рынке. Серьезные люди вложили серьезные деньги, выплатили переводчику большой гонорар, потратились на хорошую бумагу и на художника-карикатуриста Сакурова, рисующего славян в виде грязных гоблинов (11). Заложились с первым томом на тираж 25 000 экземпляров (наверняка были допечатки), а со вторым — на 100 000. Для нашего малотиражного рынка это равносильно атомной бомбардировке.
А это значит, что, несмотря на провал у всех рецензентов, эту книгу будут пихать в школьные библиотеки, родители будут дарить её на день рождения детям, начальники — нерадивым подчиненным, а люрексные тетки с недокрашенными корнями волос будут свистеть во все фистулы: «Мало мы знаем нашу историю! Мало! Вот только Акунина и можно почитать! Только Григорий Шалвович, батюшка, правду скажет, что у князя Владимира было специальное приспособление для секса — «венерин набедренник» (12).
«300% прибыли», ради которых, по мнению Маркса, капиталист пойдет на любое преступление, уж точно стоят такой мелочи, как замусоривание мозгов туземцев макулатурой про «русославян».
Лажа как метод
К исторической науке этот опус не имеет никакого отношения. Научную книгу от ненаучной вообще отличить довольно просто — в ней всегда присутствует ссылочный аппарат и приложен список использованной литературы. Даже к научно-популярным книгам прилагают хотя бы небольшую библиографию, из которой читатель может составить представление, откуда автор всё это взял и что читать дальше по теме. Если в книге ссылочный аппарат и библиография отсутствуют, то перед нами художественная литература, фэнтези, или же укуренный бред.
Это требование — отнюдь не формальность. Самовлюбленные технари очень любят попрекать гуманитариев тем, что, мол, история не наука, поскольку в ней невозможен эксперимент. Нельзя повторить битву при Ватерлоо или Цусиму, даже если очень хочется перепоказать. Конечно, это не совсем так — существуют лаборатории экспериментальной археологии, где изготавливают каменные топоры и вытягивают в струнку бивни мамонта (13).
Существует такая область деятельности, как историческая реконструкция, которая может быть использована не только для развлечения, но и для уточнения хода событий. Император Николай I однажды с хронометром в руках решил, привлекая большое количество войск, реконструировать ход Бородинской битвы и обнаружил чудовищные хронологические несоответствия с официальной версией событий, которые не получили разумного объяснения вплоть до работ Лидии Ивченко в начале XXI века (14).
Но у рядового историка и в самом деле возможностей поменьше, чем у Императора Всероссийского, поэтому реконструировать события он не может. Но это и не нужно. Задача исторической науки состоит не в том, чтобы повторить событие, а в том, чтобы воссоздать максимально подробную и точную картину происшедшего на основании максимально близких по времени и наиболее достоверных свидетельств, прежде всего — письменных документов, источников. Другими словами, работа историка больше всего напоминает работу следователя с показаниями свидетелей, которая, в случае отсутствия сознательных фальсификаций, как в деле Константинова, обычно дает достоверную картину преступления.
Главное требование к этим следственным действиям — возможность проверить, действительно ли тот или иной свидетель в самом деле сказал именно это. Для такой проверки и нужна библиографическая ссылка — на публикацию источника, на его архивный индекс, если он не опубликован, на худой конец, на книгу другого исследователя, который видел тот самый источник. Эта ссылка равна естественнонаучному эксперименту — каждый человек доброй воли, работающий с книгой или статьей историка, должен иметь возможность самостоятельно проверить, действительно ли в цитируемом источнике написано именно это, не упущено ли при цитировании чего-то важного, не оборвана ли произвольно цитата.
Если ваш текст позволяет провести такую операцию, то он имеет отношение к науке. Если проверить ваш рассказ по первоисточнику невозможно, потому что вы его не указали, или указали неверно — а ведь бывает и такое, некоторые авторы ухитряются давать фальшивые ссылки на несуществующие страницы книг и мнимые источники, рассчитывая, что их никто не проверит, — то это не история от слова совсем.
«Ссылки» Акунина, как правило, имеют вид «Карамзин пишет…» (объем «Истории государства Российского» — 12 томов), «Татищев полагал…» (в «Истории Российской» Татищева — 5 объемистых томов). Но все это не сравнится с эпическим «Летописец утверждает…». Да-да, а «в интернете написано», поскольку «Полное собрание русских летописей» (на самом деле далеко не полное) заключает в себе на сегодняшний момент 43 тома (15). И какого из «летописцев» Акунин имеет в виду, особенно во второй части своего опуса, когда речь точно уже не идет о «Повести временных лет», в большинстве случаев понять категорически невозможно. Да и сам он вряд ли знает.
Никакой библиографии, хотя бы на одну страничку, Акунин вообще к своему сочинению не приложил (16). Сделано это, конечно, вполне сознательно, потому что тогда станет понятно, что никакой новой исторической литературы он не читал и списывает в основном у популярных авторов XIX века (даже из них отдавая предпочтение украинскому русофобу Костомарову, а не, к примеру, дотошному при всем его национальном нигилизме Соловьеву).
Знакомства с монографической литературой у Акунина ноль, о статьях в научных журналах и сборниках вообще не говорю. Это, кстати сказать, доказывает, что никакого интереса к русской истории Чхартишвили не испытывает и в помине. Человек, которому история и в самом деле интересна, особенно если у него диплом ИСАА, читает новые книги, особенно если занялся сочинением истории сам. Подобной потребности наше дарование не испытывает совсем, откуда понятно, что для него история не увлечение, а литературная халтурка.
Понятно, что при такой методологии текст акунинской «Истории» не мог не превратиться в собрание самых безумных ляпов, идиотских гипотез и невероятных нелепиц. Над некоторыми уже смеялись всей страной, наблюдая, точно порнофильм, картину, как гунны предаются «стаеобразной полигамии», в то время как славяне, «ограничиваясь разведением свиней» поклоняются «богу дождя Даждьбогу». Но надо понимать, что ляпы, ошибки, неточные и ложные сведения, домыслы и перевирания присутствуют на каждой, повторюсь — на каждой странице первого тома акунинского сочинения.
Текст с ошибками
Когда я учился в небезызвестной московской 57-й школе, историю нашим математикам преподавал Сергей Георгиевич Смирнов — ученик Л.Н. Гумилева, автор интересной книги «Годовые кольца истории» (17) и изобретатель такого жанра, как «Задачник по истории» (18).
Составной частью такого задачника был текст с ошибками. Школьнику давали совершенно безумный текст типа: «Царь, государь и Великий Курфюрст всея Руси Иван Иванович Грозный ехал на велосипеде по Невскому проспекту, по бокам скакали на оленях опричники с лисьими хвостами, притороченными к седлам. Во главе скакал опричный палач — Ермак, лично задушивший в тюрьме Папу Римского Григория VII Гильдебрандта». Требовалось найти и выписать столбиком все ошибки и анахронизмы в тексте.
Акунинский опус представляет собой, по сути, именно такой текст с ошибками. Я готов с любым человеком доброй воли сыграть в игру, открыв любую страницу этого тома и найдя на ней как минимум одну ошибку. Мало того, я уже играл и выигрывал в, казалось бы, безнадежном положении.
Вот страница 185 (19). 3 строчки. И уже ляп — появляется какая-то «Червеная Русь». По-русски это пограничье Польши и Руси, более известное сегодня каждому новороссу как «Рагулистан», именуется «Червонной Русью», по-украински, коль уж теперь это сердце Западенщины, — «Червона Русь». По-польски — «GrodyCzerwienskie».
Остальное пространство над этим ляпом занимает карта Руси при князе Владимире. Но и она полна ошибок — зачем-то разделена на княжества: Новгородское, Черниговское, Смоленское и т. д. При Владимире никакого разделения, разумеется, не было. Однако если считать «княжествами» земли, которыми управляли сыновья Владимира, то и тут всё неверно. Нет Туровского княжества, которым правил не кто-нибудь, а Святополк Окаянный, зачинатель бойни, которая погрузила Русь в долгую междоусобицу после смерти Владимира. Нет княжества Псковского, во главе которого стоял Судислав. И напротив — Переяславль Южный в это время никакого собственного князя не имел.
Вот страница под номером 281. Пять строчек. Остальное пространство снова занимает карта. Найти ошибку именно в произвольных пяти строчках — дело, казалось бы, невозможное. Но не в том случае, если это Акунин.
«Полоцкая Русь пришла в упадок. В 1127-1129 гг. киевский великий князь присоединил её к своим владениям, а потомков Всеслава выслал в Византию. На этом более чем вековая история независимого Полоцкого государства закончилась» (20).
За «независимое государство» Чхартишвили, конечно, заслужил от Лукашенко орден. Но он его не получит, поскольку злостно клевещет на полоцкую историю. Оказывается, независимая история Полоцкого государства с походом Мстислава Великого не закончилась, а напротив — только началась. «В 1132 году полочане изгнали из города Киевского ставленника Святополка и провозгласили своим князем внука Всеслава Чародея, Васильку» — сообщает нам книга «Страна Беларусь» (21). Сама, впрочем, способная стать не меньшим источником издевательских ошибок, чем Акунин, но только в другом роде — это адовый манифест подлукашенковского белорусского национализма.
Поэтому дадим слово более серьезным авторам:
«Через пять лет потомки Всеслава снова появились в Полотчине и, пользуясь наступавшими на Руси смутами, возвратили себе свои княжения. Но теперь Полоцкая земля была раздроблена и обессилена. Теперь Всеславичи уже не пытались вмешиваться в русские дела» — пишет знаменитый русско-белорусский историк М.В. Довнар-Запольский (22).
Оказывается, до своего разгрома Мстиславом Полоцкое княжество отнюдь не было «независимым государством». Напротив, это была часть Руси, князья которой, как Всеслав Полоцкий, знаменитый Волх Всеславич весьма активно лезли в общерусские дела.
А вот после разгрома наступила настоящая незалежность, будь она неладна, ибо закончилась она для Полоцка покорением Литвой и тем, что теперь белорусов убеждают в том, что они литвины. Ну в самом деле — Всеслав и Витаутас — это же одно имя на одном языке, не так ли?
Впрочем, и тут не всё так однозначно — оказывается и после возвращения Всеславичей Полоцкая земля отнюдь не выпала из общерусской политики.
«Ослабевший Полоцк был втянут в борьбу южнорусских князей на стороне противников Изяслава Мстиславича (1137). Однако слабому Полоцку отношения с Мономаховичами были выгодны. В следующем, 1138 году Василько заигрывает с Всеволодом и Святополком Мстиславичами — новгородскими изгоями, проезжавшими через Полоцк в Псков (1138). В 1138 г. полоцкие «вои» участвуют в походах Мономаховичей на Ольговичей» (23).
Сообщение отредактировал Алхимик: 20.11.2014 - 17:01
#105
Отправлено 20.11.2014 - 17:04
Прелести кнута.
Необходимо понимать, что Чхартишвили отнюдь не случайно назвал свой опус «История Российского государства». Он ничтожен как историк, но вполне конкретен и идеологически внятен как публицист. Сквозь бормотание, путаницу и ляпы у Акунина проведена вполне определенная идеология. Причем как раз эта идеология является для классической русской историографии довольно традиционной, она выражается самой значительной по научному весу и прочности занимаемых позиций научной школой — «государственной школой». Акунин лишь проговаривает азы этой школы с развязностью кавказского тоста.
Русская историография сложилась в рамках так называемой государственной школы, которая воспевала нашу историю как процесс торжества государственных начал над племенными. Сперва суровые викинги (те ещё, по совести сказать, «государственники»), затем справедливые монгольские ханы и, наконец, приглашенные Петром Великим немецкие бароны загоняли славянское быдло в стойло великой цивилизации. Быдло упиралось, лягалось, рыгало, но, в конечном счете, пытками и казнями было приведено к покорности. Так-то и образовалась великая Российская Империя.
Другими словами, «государственная школа» в русской историографии предполагала, что становление российской государственности и приближение русских к высотам цивилизации осуществлялась через систематическое разрушение русского народа, через насилие над русским, славянским, этническим фундаментом, которое совершают залетные и доморощенные иностранцы, служащие государственной власти. Можно даже сказать, что для «государственников» «русское» это переходное состояние от «славянского» к «россиянскому».
Если вы полагаете, что я утрирую, то послушайте мнение Михаила Осиповича Кояловича — выдающегося русско-белорусского историка, славянофила и основателя русской историографической науки (то есть изучения истории и исторических исследований). Вот что он пишет в своем классическом труде «История русского самосознания» (36) об «Истории России» С.М. Соловьева — самого крупного представителя «государственной школы»:
«Идея разрушения действительно проходит через всю «Историю России» Соловьева. Мало того, проходит через эту «Историю» идея разрушения не только того, что само собой сложилось, так сказать, за глазами двигателей русской исторической жизни, но разрушения и того, что создано было и, по-видимому, хорошо создано самими двигателями этой жизни. Призванные князья разрушают племенной быт племен; суздальские князья, а за ним и московские разрушают удельно-вечевой быт; Петр разрушает строение московских князей, преемники Петра разрушают или переделывают строение петровское…» (37).
«Самое большое значение, самую широкую область деятельности он дает в этом случае государственной власти. Ее он считает более способной и бороться со стихийными силами, и направлять их к целям цивилизации; а в русском народе, в котором для этого тоже могли быть и не зависимые от правительства силы, Соловьев усматривает, главнейшим образом, не какие-либо определенные, культурные начала, а просто хорошую подкладку для правительственных действий…На историческом русском поприще мы видим собственно власть, которая исторически вырабатывает культуру и направляет к ней русский народ, а этот народ чаще всего является неподатливой, стихийной, как бы отрицательной силой. Вся русская история есть движение то стихийное, то обнаруживающее в себе проблески культуры, т. е. заимствований ее у чужих… Масса русского народа представляется неподвижной, косной, а вся прогрессивная деятельность сосредоточивается в государственности и постепенно передается народу» (38).
Именно Соловьеву Россия обязана тем, что мы не имели и не имеем ни национальной истории, ни национальной историографии. В то время как в Германии национальную историографию, ставившую в центр немецкий народ, создал Леопольд Ранке, в то время как во Франции историческая наука строилась на национализме, приобретающем у Жюля Мишле характер прямо-таки патетической истерики («святые штыки Франции»), в России Соловьев, ненавидящий «китаизм» любви к своему народу, безапеляционно заявил: «Неприятное восхваление своей национальности, какое позволяют себе немецкие писатели, не может увлечь русских последовать их примеру» (39).
Весьма характерно когда и по какому поводу это сказано. Тринадцатый том «Истории» Соловьева вышел в 1863 году, когда польский мятеж всколыхнул в русском обществе настоящее цунами патриотизма, сравнимое разве что с сегодняшним. И вот Соловьев спешит высказаться по актуальному вопросу, категорически патриотизм русским запретив. Русская история обязана быть историей отсталости и ничтожества, преодолеваемого лишь по пути на Запад. «Здесь бдолах и камень оникс».
Соловьев замечает, что может возникнуть предположение, что “племя, которое при всех самых неблагоприятных условиях умело устоять окруженное варварством, умело сохранить свой европейско-христианский образ… обнаружило необыкновенное могущество духовных сил» (40). Собственно, это и есть истинная философия русской истории, заключающаяся в одном слове — «невозможное». Русские стали великим европейским христианским народом в чудовищных климатических условиях на Севере и еще более чудовищных внешнеполитических условиях на границе с кочевой Степью. Это умение добиваться невозможного — формула русского национального успеха. Но, отлично сознавая истину, Соловьев сознательно затыкает её, ставит риторическую заглушку, запрещая патриотический взгляд на русскую историю вместо привычного дискурса сироубогости.
Отечественные историки должны были показывать русских как часть славян, забредшую в угрюмые чухонские болота и там деградировавшую едва не до состояния грибов (41). По счастью для русских, на свет появилось заведенное здесь иностранцами государство, которое и двигает заблудившихся в Азии русачков назад в Европу — двигает казнями, пытками, монгольским деспотизмом, крепостничеством. Все самые прекрасные и поэтичные черты русской народности оказываются вредными с точки зрения прогресса. Демократические начала, проявленные, к примеру, в русском вечевом строе — страшным тормозом на пути к Порядку и Цивилизации. И напротив, самые чудовищные проявления государственной азиатчины, самая дремучая монгольщина — в конечном счете благодетельны, поскольку именно ханской ногайкой в руках государей и их многонациональных опричников русские загоняются через петровское окно в западную цивилизацию.
У Акунина нетрудно заметить эту же нехитрую схему, только изложенную гораздо более топорно. Славяне — это почти животные, что удостоверяют упомянутые уже рисунки иллюстратора Сакурова. В эпоху климатического потепления эти зверушки расплодились и заполонили собой всю Восточную Европу (42). На их счастье, на пути им попались многонациональная хазарская империя (43) и мудрые викинги, которые совместными усилиями построили им почти европейское государство. В этот момент Русь была «частью Европы». Но русские и без того уже стремились к «окипчачиванию» (44), а когда пришли монголы, так и вовсе с радостью встроились в великую Евразийскую Империю.
Существование Руси в эту эпоху прекратилось. «С середины тринадцатого и до второй половины пятнадцатого века страны с таким названием не существовало» (45) (ложь, разумеется, страну «Русь» знают и Плано Карпини, и Марко Поло, и десятки других западных и восточных авторов). Даже так — «Русь формально входила в китайскую империю Юань» (46) — утверждение дичайше невежественное. Династия Юань была основана Хубилаем в 1271 году, через 10 лет после того как между ним и ханом Улуса Джучи Берке началась война, в результате которой Золотая Орда навсегда вышла из под власти Хубилая и его потомков (47).
Монгольщина для Акунина это не трагедия для Руси, а благо. Поскольку, во-первых, без этого «Россия не была бы той культурно и духовно многоцветной страной, какой она сегодня является» (48) и самоуверенного невежественного многонационала, заявившего, что он написал «Историю Российского государства», попросту бы вытолкали из парадной.
А во вторых, монгольщина усилила российское государство и дало ему на будущее новые силы и средства (беспрекословное послушание государю, смертную казнь и пытку, русскую «жертвенность»), дабы не считаясь с ценой гнать славян по пути цивилизации.
Основатели русского евразийства с выпученными глазами глядят на то, что в итоге новиоп сделал с их теорией. Начиналось-то евразийство, до того, как превратилось в идеологию новиопов, как раз с того, чтобы перенести решающее значение в русской истории с западнического государства на сам русский народ.
«Творец русской истории — русский народ. Развитие русского народа в последовательной поступи времен и есть собственный предмет русской истории» — решительно начал своё «Начертание русской истории» Г.В. Вернадский (49). К сожалению, закончил он плохо, как и все евразийцы, поскольку месторазвитием русского народа является Евразия, а политической формой Евразии является монгольская империя (что, конечно, не соответствует действительности), а значит русские — продолжатели монголов. Отсюда уже и до Акунина недалеко.
Подводя итог. Как историк, неважно, исследователь или популяризатор, Акунин — нуль с нарисованными внутри комичными рожицами. Он отлично годится для салонной игры в фанты — кто найдет на одной странице больше ошибок.
Но вот как разносчик определенной идеологии, публикуемый стотысячными тиражами, Акунин весьма опасен.
Эту идеологию Акунин, увы, не придумал, а развил, вульгаризовав догматы русской «государственной школы» в историографии. Во-первых, это историческая дискриминация русских — в своей основе мы получаемся неспособными к саморазвитию полудикарями. Во-вторых, отчаянное новиопское поклонение любой государственной власти, прощение ей любой крови, грязи, любого презрения к русскому народу, любых пыток и казней, любых предательств, издевательств и сливов, любого неуважения к общественному мнению, лишь бы правительство поддерживало «многонациональность» и оставалось «первым европейцем», то есть дозволяло Чхартишвили и дальше учить уму разуму туземцев, одновременно сшибая с них бабки и поливая их презрением.
Государство, которое преследует русских националистов и позволяет Чхартишвили писать свою «историю» — это акунинский рай. К сожалению — утерянный. На своё несчастье Путин сделал вид, что заботится о русских и даже взял Крым, а вот Чхартишвили уважил недостаточно, и поэтому кисо обиделось и заявило об эмиграции. Но нам-то с вами от этого не легче.
Так или иначе, воззрения на русский народ и государство, карикатурную версию которых представил Чхартишвили, характерны в той или иной степени для большинства публикуемых у нас исторических трудов. И, напротив, национальная точка зрения, точка зрения политических интересов русского народа в нашей исторической литературе практически не отражена.
Национальная история русских по-прежнему не написана.
Необходимо понимать, что Чхартишвили отнюдь не случайно назвал свой опус «История Российского государства». Он ничтожен как историк, но вполне конкретен и идеологически внятен как публицист. Сквозь бормотание, путаницу и ляпы у Акунина проведена вполне определенная идеология. Причем как раз эта идеология является для классической русской историографии довольно традиционной, она выражается самой значительной по научному весу и прочности занимаемых позиций научной школой — «государственной школой». Акунин лишь проговаривает азы этой школы с развязностью кавказского тоста.
Русская историография сложилась в рамках так называемой государственной школы, которая воспевала нашу историю как процесс торжества государственных начал над племенными. Сперва суровые викинги (те ещё, по совести сказать, «государственники»), затем справедливые монгольские ханы и, наконец, приглашенные Петром Великим немецкие бароны загоняли славянское быдло в стойло великой цивилизации. Быдло упиралось, лягалось, рыгало, но, в конечном счете, пытками и казнями было приведено к покорности. Так-то и образовалась великая Российская Империя.
Другими словами, «государственная школа» в русской историографии предполагала, что становление российской государственности и приближение русских к высотам цивилизации осуществлялась через систематическое разрушение русского народа, через насилие над русским, славянским, этническим фундаментом, которое совершают залетные и доморощенные иностранцы, служащие государственной власти. Можно даже сказать, что для «государственников» «русское» это переходное состояние от «славянского» к «россиянскому».
Если вы полагаете, что я утрирую, то послушайте мнение Михаила Осиповича Кояловича — выдающегося русско-белорусского историка, славянофила и основателя русской историографической науки (то есть изучения истории и исторических исследований). Вот что он пишет в своем классическом труде «История русского самосознания» (36) об «Истории России» С.М. Соловьева — самого крупного представителя «государственной школы»:
«Идея разрушения действительно проходит через всю «Историю России» Соловьева. Мало того, проходит через эту «Историю» идея разрушения не только того, что само собой сложилось, так сказать, за глазами двигателей русской исторической жизни, но разрушения и того, что создано было и, по-видимому, хорошо создано самими двигателями этой жизни. Призванные князья разрушают племенной быт племен; суздальские князья, а за ним и московские разрушают удельно-вечевой быт; Петр разрушает строение московских князей, преемники Петра разрушают или переделывают строение петровское…» (37).
«Самое большое значение, самую широкую область деятельности он дает в этом случае государственной власти. Ее он считает более способной и бороться со стихийными силами, и направлять их к целям цивилизации; а в русском народе, в котором для этого тоже могли быть и не зависимые от правительства силы, Соловьев усматривает, главнейшим образом, не какие-либо определенные, культурные начала, а просто хорошую подкладку для правительственных действий…На историческом русском поприще мы видим собственно власть, которая исторически вырабатывает культуру и направляет к ней русский народ, а этот народ чаще всего является неподатливой, стихийной, как бы отрицательной силой. Вся русская история есть движение то стихийное, то обнаруживающее в себе проблески культуры, т. е. заимствований ее у чужих… Масса русского народа представляется неподвижной, косной, а вся прогрессивная деятельность сосредоточивается в государственности и постепенно передается народу» (38).
Именно Соловьеву Россия обязана тем, что мы не имели и не имеем ни национальной истории, ни национальной историографии. В то время как в Германии национальную историографию, ставившую в центр немецкий народ, создал Леопольд Ранке, в то время как во Франции историческая наука строилась на национализме, приобретающем у Жюля Мишле характер прямо-таки патетической истерики («святые штыки Франции»), в России Соловьев, ненавидящий «китаизм» любви к своему народу, безапеляционно заявил: «Неприятное восхваление своей национальности, какое позволяют себе немецкие писатели, не может увлечь русских последовать их примеру» (39).
Весьма характерно когда и по какому поводу это сказано. Тринадцатый том «Истории» Соловьева вышел в 1863 году, когда польский мятеж всколыхнул в русском обществе настоящее цунами патриотизма, сравнимое разве что с сегодняшним. И вот Соловьев спешит высказаться по актуальному вопросу, категорически патриотизм русским запретив. Русская история обязана быть историей отсталости и ничтожества, преодолеваемого лишь по пути на Запад. «Здесь бдолах и камень оникс».
Соловьев замечает, что может возникнуть предположение, что “племя, которое при всех самых неблагоприятных условиях умело устоять окруженное варварством, умело сохранить свой европейско-христианский образ… обнаружило необыкновенное могущество духовных сил» (40). Собственно, это и есть истинная философия русской истории, заключающаяся в одном слове — «невозможное». Русские стали великим европейским христианским народом в чудовищных климатических условиях на Севере и еще более чудовищных внешнеполитических условиях на границе с кочевой Степью. Это умение добиваться невозможного — формула русского национального успеха. Но, отлично сознавая истину, Соловьев сознательно затыкает её, ставит риторическую заглушку, запрещая патриотический взгляд на русскую историю вместо привычного дискурса сироубогости.
Отечественные историки должны были показывать русских как часть славян, забредшую в угрюмые чухонские болота и там деградировавшую едва не до состояния грибов (41). По счастью для русских, на свет появилось заведенное здесь иностранцами государство, которое и двигает заблудившихся в Азии русачков назад в Европу — двигает казнями, пытками, монгольским деспотизмом, крепостничеством. Все самые прекрасные и поэтичные черты русской народности оказываются вредными с точки зрения прогресса. Демократические начала, проявленные, к примеру, в русском вечевом строе — страшным тормозом на пути к Порядку и Цивилизации. И напротив, самые чудовищные проявления государственной азиатчины, самая дремучая монгольщина — в конечном счете благодетельны, поскольку именно ханской ногайкой в руках государей и их многонациональных опричников русские загоняются через петровское окно в западную цивилизацию.
У Акунина нетрудно заметить эту же нехитрую схему, только изложенную гораздо более топорно. Славяне — это почти животные, что удостоверяют упомянутые уже рисунки иллюстратора Сакурова. В эпоху климатического потепления эти зверушки расплодились и заполонили собой всю Восточную Европу (42). На их счастье, на пути им попались многонациональная хазарская империя (43) и мудрые викинги, которые совместными усилиями построили им почти европейское государство. В этот момент Русь была «частью Европы». Но русские и без того уже стремились к «окипчачиванию» (44), а когда пришли монголы, так и вовсе с радостью встроились в великую Евразийскую Империю.
Существование Руси в эту эпоху прекратилось. «С середины тринадцатого и до второй половины пятнадцатого века страны с таким названием не существовало» (45) (ложь, разумеется, страну «Русь» знают и Плано Карпини, и Марко Поло, и десятки других западных и восточных авторов). Даже так — «Русь формально входила в китайскую империю Юань» (46) — утверждение дичайше невежественное. Династия Юань была основана Хубилаем в 1271 году, через 10 лет после того как между ним и ханом Улуса Джучи Берке началась война, в результате которой Золотая Орда навсегда вышла из под власти Хубилая и его потомков (47).
Монгольщина для Акунина это не трагедия для Руси, а благо. Поскольку, во-первых, без этого «Россия не была бы той культурно и духовно многоцветной страной, какой она сегодня является» (48) и самоуверенного невежественного многонационала, заявившего, что он написал «Историю Российского государства», попросту бы вытолкали из парадной.
А во вторых, монгольщина усилила российское государство и дало ему на будущее новые силы и средства (беспрекословное послушание государю, смертную казнь и пытку, русскую «жертвенность»), дабы не считаясь с ценой гнать славян по пути цивилизации.
Основатели русского евразийства с выпученными глазами глядят на то, что в итоге новиоп сделал с их теорией. Начиналось-то евразийство, до того, как превратилось в идеологию новиопов, как раз с того, чтобы перенести решающее значение в русской истории с западнического государства на сам русский народ.
«Творец русской истории — русский народ. Развитие русского народа в последовательной поступи времен и есть собственный предмет русской истории» — решительно начал своё «Начертание русской истории» Г.В. Вернадский (49). К сожалению, закончил он плохо, как и все евразийцы, поскольку месторазвитием русского народа является Евразия, а политической формой Евразии является монгольская империя (что, конечно, не соответствует действительности), а значит русские — продолжатели монголов. Отсюда уже и до Акунина недалеко.
Подводя итог. Как историк, неважно, исследователь или популяризатор, Акунин — нуль с нарисованными внутри комичными рожицами. Он отлично годится для салонной игры в фанты — кто найдет на одной странице больше ошибок.
Но вот как разносчик определенной идеологии, публикуемый стотысячными тиражами, Акунин весьма опасен.
Эту идеологию Акунин, увы, не придумал, а развил, вульгаризовав догматы русской «государственной школы» в историографии. Во-первых, это историческая дискриминация русских — в своей основе мы получаемся неспособными к саморазвитию полудикарями. Во-вторых, отчаянное новиопское поклонение любой государственной власти, прощение ей любой крови, грязи, любого презрения к русскому народу, любых пыток и казней, любых предательств, издевательств и сливов, любого неуважения к общественному мнению, лишь бы правительство поддерживало «многонациональность» и оставалось «первым европейцем», то есть дозволяло Чхартишвили и дальше учить уму разуму туземцев, одновременно сшибая с них бабки и поливая их презрением.
Государство, которое преследует русских националистов и позволяет Чхартишвили писать свою «историю» — это акунинский рай. К сожалению — утерянный. На своё несчастье Путин сделал вид, что заботится о русских и даже взял Крым, а вот Чхартишвили уважил недостаточно, и поэтому кисо обиделось и заявило об эмиграции. Но нам-то с вами от этого не легче.
Так или иначе, воззрения на русский народ и государство, карикатурную версию которых представил Чхартишвили, характерны в той или иной степени для большинства публикуемых у нас исторических трудов. И, напротив, национальная точка зрения, точка зрения политических интересов русского народа в нашей исторической литературе практически не отражена.
Национальная история русских по-прежнему не написана.
Сообщение отредактировал Алхимик: 20.11.2014 - 17:07
#107
Отправлено 24.11.2014 - 11:28
Предоставим слово самому Мордыхаю,славно и поцритотично сбежавшему до городу Лондону.
"...Григорий Чхартишвили, более известный как писатель Борис Акунин признался, что завидует украинцам за их нынешний национализм. Видимо осознает, что у самого грузина любви к своей Родине недостаточно, раз взял себе русский псевдоним, а жить и писать предпочитает в России и для русских.

"Несколько дней назад был на концерте группы "Океан Эльзы". Нахожусь под сильным впечатлением. И раздумываю - о непривычном. Про непривычные мысли потом, сначала о впечатлении. Не от музыки – она была чудесна, но я ее слышал и прежде.
От публики.
Я оказался в большом зале, наполненном людьми в вышиванках. У девушек на головах венки а-ля Наталка Полтавка. Чуть что, все хором кричат "Слава Украине! Героям слава!" и размахивают желто-голубыми флагами. А в конце весь зал вместе с Вакарчуком запел национальный гимн – "Ще не вмерла...".
Глядя на всё это, я испытывал сильное чувство, природа которого мне стала понятна не сразу, а когда я разобрался, то очень удивился. Чувство это, оказывается, было лютой завистью. Знаете, как в детстве: сидишь дома с простудой, смотришь в окно, а там все играют во что-то невыносимо интересное, и им там классно. А у тебя температура, из носа течет, горло наждачное, скоро предстоит пить противное молоко с содой и ставить горчичники.
Ведь если у нас большая толпа начнет орать "Слава России!" и размахивать флагами, это будет либо какая-то казенно-патриотическая акция, либо сборище агрессивных ксенофобов. Ну, а представить себе соотечественников, добровольно поющих михалковский гимн про "братских народов союз вековой", я вообще не могу, воображения не хватает.
Примечательно еще и то, что люди на концерте, включая Наталок-Полтавок, по большей части говорили между собой по-русски. Какой-то молодой человек подошел ко мне и сурово сказал: "Об одном прошу: пусть ваш Фандорин в следующем романе не враждует с Правым сектором". Всё это, безусловно, был щирый украинский национализм, однако не этнический, а государственный. И совершенно добровольный – ведь дело происходило не в Киеве, а в Лондоне..."
Представляете, каково!? Процветающие в дорогущем Лондоне люди, покинувшие в трудный час свою родину, покупают дорогие билеты любимой ими группы и демонстрируют патриотизм. Может, даже жертвуют десяток фунтов на покупку бронежилетов.
Не чувствуете некоторой гадливости? Чхартишвили потому и принял их близко к сердцу, что сам так же сознательно развелся с Грузией.
"...Григорий Чхартишвили, более известный как писатель Борис Акунин признался, что завидует украинцам за их нынешний национализм. Видимо осознает, что у самого грузина любви к своей Родине недостаточно, раз взял себе русский псевдоним, а жить и писать предпочитает в России и для русских.

"Несколько дней назад был на концерте группы "Океан Эльзы". Нахожусь под сильным впечатлением. И раздумываю - о непривычном. Про непривычные мысли потом, сначала о впечатлении. Не от музыки – она была чудесна, но я ее слышал и прежде.
От публики.
Я оказался в большом зале, наполненном людьми в вышиванках. У девушек на головах венки а-ля Наталка Полтавка. Чуть что, все хором кричат "Слава Украине! Героям слава!" и размахивают желто-голубыми флагами. А в конце весь зал вместе с Вакарчуком запел национальный гимн – "Ще не вмерла...".
Глядя на всё это, я испытывал сильное чувство, природа которого мне стала понятна не сразу, а когда я разобрался, то очень удивился. Чувство это, оказывается, было лютой завистью. Знаете, как в детстве: сидишь дома с простудой, смотришь в окно, а там все играют во что-то невыносимо интересное, и им там классно. А у тебя температура, из носа течет, горло наждачное, скоро предстоит пить противное молоко с содой и ставить горчичники.
Ведь если у нас большая толпа начнет орать "Слава России!" и размахивать флагами, это будет либо какая-то казенно-патриотическая акция, либо сборище агрессивных ксенофобов. Ну, а представить себе соотечественников, добровольно поющих михалковский гимн про "братских народов союз вековой", я вообще не могу, воображения не хватает.
Примечательно еще и то, что люди на концерте, включая Наталок-Полтавок, по большей части говорили между собой по-русски. Какой-то молодой человек подошел ко мне и сурово сказал: "Об одном прошу: пусть ваш Фандорин в следующем романе не враждует с Правым сектором". Всё это, безусловно, был щирый украинский национализм, однако не этнический, а государственный. И совершенно добровольный – ведь дело происходило не в Киеве, а в Лондоне..."
Представляете, каково!? Процветающие в дорогущем Лондоне люди, покинувшие в трудный час свою родину, покупают дорогие билеты любимой ими группы и демонстрируют патриотизм. Может, даже жертвуют десяток фунтов на покупку бронежилетов.
Не чувствуете некоторой гадливости? Чхартишвили потому и принял их близко к сердцу, что сам так же сознательно развелся с Грузией.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей