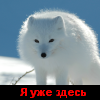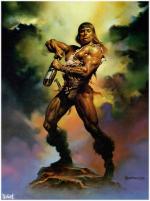Он начал свою карьеру в фитнесе, когда это слово писали вот так: «фитнесс». Стаж в спорте — 45 лет. Увлечения: карате, пулевая стрельба, лыжи, горный туризм. Тренировал клиентов, делал все — от техзаданий до некоторых групповых программ. За его плечами — с десяток удачных в плане экономики фитнес-проектов в России и даже в Финляндии. Сейчас его компания создает и запускает клубы «под ключ». Берется не за все проекты, вернее, работает не со всеми заказчиками. С тем, кто «знает, как надо», не работает в принципе, считая пустой тратой времени.
По его словам, в последние годы резко увеличилось количество аудиторских проектов, связанных с переделкой убыточных клубов. Что интересно, многие заказчики аудитов не афишируют факт работы с Тимуром Беставишвили, в договорах есть пункты о конфиденциальности.
Предмет его гордости – курс подготовки топ-менеджеров фитнес-индустрии: «Организация и управление предприятием в сфере фитнеса» в Санкт-Петербурге, за 6 лет выпустили больше сотни специалистов. А еще в своей работе любит ощущение того, что можешь приехать куда-то, подойти к фитнес-клубу, погладить его и сказать: «Это сделал я и это хорошо работает».
«Консультант – тот, кто что-то сказал, получил гонорар и отвалил, у нас же критерий — прибыль, мы же свои проекты курируем годами»
— В нашей переписке вы поправили меня, когда я написала, что вы «консультируете руководителей фитнес-индустрии». А как правильно?
— Я не консультирую. Вы меня еще «коучем» или «бизнес-тренером» назовите — тогда я точно рассержусь. Я делом занят, а не разговорами, и критерий успешности дела или проекта только один – прибыль. Консультант – тот, кто что-то сказал, получил гонорар и отвалил, мы свои проекты курируем годами, поддерживаем, помогаем преодолеть текущие ошибки, продвигаться вперед. Это не консультирование, а нечто другое. Проекты – как дети, к каждому формируется личное отношение.
— Мне кажется, сейчас индустрия разделилась на два лагеря: тренеры не верят руководителям, а руководители не слышат тренеров. Почему?
— Я думаю, что причина в следующем: пока ни тренеры, ни руководители не могут принять даже мысли о том, что нужно прислушаться и к противоположной стороне. Если люди живут на разных планетах и руководствуются разными критериями оценки того, что «хорошо», а что «плохо», диалог не получается.
Руководитель, даже самый неквалифицированный, рано или поздно начинает хотя бы пытаться мыслить экономическими категориями, он просто вынужден. Фитнес-клуб – это коммерческое предприятие, в которое кто-то инвестировал деньги. И этот кто-то начинает спрашивать о них именно управляющего. Правда, тут возникает развилка. Если управляющий не безнадежен, он начинает думать о том, что он делает не так в клубе. Если же безнадёжен – он думает о том, почему клиенты такие жадные. Но в любом случае управляющий начинает понимать, что состояние «хорошо»: это когда деньги есть, и не просто выручка, а прибыль.
Кстати, последняя мысль — откровение для многих людей в нашем бизнесе: почти никто не понимает принципиальной разницы этих понятий и все гордятся большой выручкой. И именно в самых убыточных клубах гордятся больше.
Тренерам на экономику клуба наплевать. И это нехорошо, но, в принципе, понятно. Тренеру важно, чтобы платили хорошо и в срок. Ему не важно, что от продаж персональных тренировок клуб практически ничего не зарабатывает, главное, что зарабатывает он. Кстати, безграмотный управляющий тоже не знает, что клуб ничего не зарабатывает на тренировках. И безграмотный инвестор – тоже. Именно отсюда и появляются убойные планы по продажам персональных тренировок, которые так любят в российских клубах. Элементарно считать деньги никто не умеет. Вы бы видели, с какими глазами меня слушали на фитнес-конвенции MIOFF в прошлом году, когда я читал доклад на эту тему: с цифрами и выкладками. Слушатели лекций, подчеркну, в основном, — руководители клубов.
«Чтобы клуб работал экономически нормально, количество клиентов должно быть 1,3-1,5 на кв м»
— Так, а как быть тренерам? И что с ними может быть не так?
— Вернемся к тренеру. Он не понимает в принципе, и никто ему не может объяснить, что вся экономика клуба зависит не от десятка клиентов, покупающих «персоналки» у каждого тренера, а от сотен и тысяч тех, кто просто покупает абонементы. Кстати, для того, чтобы клуб работал экономически нормально, количество постоянных клиентов в нем должно составлять 1,3-1,5 на квадратный метр.
Посчитайте, сколько в вашем клубе и подумайте, почему у вас такие проблемы с зарплатами, а начальство истерично гонит план по «персоналкам». Повторяю: никто экономики клуба тренерам не объясняет, потому что сами не знают. Да и не хотят знать, вот и получается замкнутый круг.
Часть тренеров, особенно «спортсмены» и «тренеры чемпионов» имеют совершенно иную, неэкономическую систему критериев оценки качества своей работы. «Ну, что они могут мне сказать, если я пять чемпионов подготовил?!» Этот аргумент кажется неоспоримым. А мысль о том, что клуб — место, где продают, а не тренируют, не появляется в голове. И что продают все, даже уборщицы. Продажа – это не просто акт пробивания чека и оформление договора, а создание атмосферы, в которой каждый клиент, опережая собственный визг, несется к кассе, чтобы возобновить клубную карту!
А от тренеров только и слышишь: «Мы обязаны тренировать, а продают манагеры». Напротив, уважаемые, вот кто меньше всех продает – это как раз менеджеры отделов продаж. Именно поэтому во всех наших проектах их нет в принципе, а в аудиторских мы их просто ликвидируем целыми отделами. Но это отдельный, долгий разговор. В итоге никто никого не хочет услышать и понять. Это ситуация, в которой виноваты все.
«Тренер должен уметь продавать не только себя, но и клуб»
— Дмитрий Калашников, глава FPA, критически оценивает спортсменов в роли тренеров в оздоровительном фитнесе. Дело в несовместимости подходов. Вы согласны с ним?
— Что касается спортсменов, то «богу — богово, кесарю — кесарево». Если ты спортсмен или спортивный тренер – иди в спортивный клуб, и там делай все, что хочешь. В фитнес-клубе нужно работать, а не тренировать. С Дмитрием Калашниковым в этом вопросе я совершенно солидарен. Добавлю: тренер должен уметь продавать не только себя, но и клуб, от этого он точно больше заработает. Что касается методик: если тренер не приносит вреда клиентам – его методическая подготовка вполне достаточна.
— Когда я начинала работу в клубе, мне платили «черную» зарплату, в тренерской было холодно, неуютно, негде приклонить голову, не работала душевая и пахло котами. С работы я приходила порой после 12 ночи — мы должны были дежурить. На семье график сказывается плохо — многие успешные тренеры развелись, потому что жили в зале. Выполнение плана тренировок тоже не гарантировало нормальных денег — нам их задерживали. Откуда взяться лояльности в такой ситуации? И ведь, согласитесь: это частая картина в наших клубах. Где баланс довольных тренеров и довольных владельцев бизнеса? Почему мы, тренеры, чувствуем себя использованными? И чем всегда недовольны собственники?
— Собственник, естественно, недоволен тем, что денег мало. Но часто он не знает, сколько надо, потому что клубы у нас создаются по принципу Наполеона – «построим, а там будет видно». Вопрос можно поставить так: если собственник получает 1000, когда по реалистичному, не от балды, плану должен получать 500 – это много? Конечно! А если получает 10 000, когда по плану должен получать 100 000? Это мало. Ключевое слово здесь – план. Только вот обоснованных планов в наших клубах почти нет. Нельзя же назвать планами некие намерения получать столько-то, которые просто высосаны из пальца. На чем эти намерения основаны? На том, что «наш клуб лучше всех?» Ну-ну…
Теперь о недовольных тренерах. Нормальный бизнесмен понимает, что бизнес зависит от квалификации персонала и желания работать. За это надо платить и платить хорошо. И он готов. Но если платить нечем? Если он вообще не понимает, что у него с финансами? Сколько есть, сколько будет, сколько останется? Тут уж не до благих намерений. Вопрос о балансе интересов, таким образом, решается лишь после того, как клуб начинает нормально работать. Кстати, в нормальных клубах собственника тренеры видят только по большим праздникам, когда он толкает речь. В ненормальных — собственник сам «руководит», то есть без толку лезет во все дырки и учит всех, что делать. За что он тогда платит управляющему?
— Если говорить о выполнении плана персональных тренировок. Ваша позиция касательно тренерского процента?
— Я опираюсь на позитивный опыт наших проектов: тренеры парами дежурят в тренажерном зале, смена 6-8 часов, 2 чистых выходных в неделю. За час дежурства получают почасовую плату. При этом они могут проводить персональные тренировки, но только по очереди, значит, не более 3-4 в смену. И когда дежурный тренер проводит персональную тренировку, почасовая оплата за это время ему не идет — только гонорар за тренировку. После смен – да хоть ночуйте в клубе.
Тренеры групповых программ: если нет урока – в тренажерный зал, на те же условия.
Всем выплачивается бонус от общей выручки от продаж карт. Планов по персональным тренировкам нет. Хочешь – продаешь, нет – твое дело.
Таким образом, нам нужны только тренеры—универсалы, взаимозаменяемые. Обучить «групповиков» легко, обучить «тренажерщиков» труднее. Умные обучаются и получают больше, глупые не хотят учиться и получают меньше. Наши тренеры в рамках такой системы на зарплату не жалуются.
— Вы, я так поняла, критически оцениваете теоретическое предложение Дмитрия Смирнова отдать все доходы от персональных тренировок тренерам. Но согласитесь, 30% тренеру от цены персональной тренировки — это слишком мало. А именно такая ставка в большинстве клубов для новичка. Да и более опытных порой клубы обирают. Когда мне предлагали работу в большом клубе в Дубае, речь шла о 50% на старте и 70%, когда пройду внутриклубную сертификацию и испытательный срок. Плюс наработаю минимальный стаж в этом клубе. При этом тренеров одевают в Nike и Adidas — это тоже бонус. Ведь в этом бизнесе ресурс — люди. Или я ошибаюсь и идеалистка? Что говорит экономика — сколько должен получать тренер?
— Думаю, ответ теперь очевиден: управляющему, в рамках системы, ориентированной на продажу карт, в принципе все равно, какой процент. То, что остается клубу после выдачи «процента» тренеру, должно хватить только на уплату налогов и платежей. Мы тренерам даем 40-50% и не паримся. Если давать больше, придется за них доплачивать налоги, не хотелось бы. При такой системе персональные тренировки рассматриваются как возможность увеличения зарплаты тренерам без раздувания фонда оплаты труда.
«В выигрыше будут клубы с невысокой стоимостью услуг. А всякие «псевдопремиальные» умрут»
— Спасибо, с этим более-менее ясно теперь. И сразу с места в карьер: как выжить фитнес-бизнесу в кризис?
— А где кризис? Кризис чего? Или я что-то пропустил? Не знаю никакого кризиса. Есть небольшой дождичек, который смывает то, что полегче, а то, что потяжелее – остается. Прошлый «кризис» 2008–2009 годов привел к резкому развитию фитнес-бизнеса в России, и так же будет сейчас. А как вопили все, помните? «Фитнес умрет!»
Когда я написал, что фитнес-бизнес сделает резкий скачок в статье «Кризис виртуальной экономики как зеркало российского идиотизма», надо мной дружно посмеялись «знаковые персоны фитнеса». И что? Кто оказался прав? Посмотрите, что происходит сейчас. Руководители «псевдопремиальных» клубов дружно воют на Луну о том, что народ из клубов утекает. Из их клубов. А руководителям клубов «эконом» не до речей, у них времени нет: народ прибывает. Догадайтесь откуда.
Понтовые «премиальные» клубы, который созданы не головой, а другим местом, закроются, а те, которые делали с применением головного мозга – расцветут, займут нишу «покойников». Забегая вперед скажу, что в выигрыше будут клубы с невысокой стоимостью услуг. А всякие «псевдопремиальные» умрут. Не забывайте, что любой кризис – когда деньги у кого-то утекают, зато неизбежно к кому-то притекают. Они не могут просто раствориться.
Сообщение отредактировал Алхимик: 06.02.2016 - 09:31